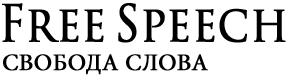 |
|
|||||||
 |
| ЗА СТОМАХИНА! |
| Сергей АЛЕКСЕЕВ |
| Шут ГУЛАГИН |
| Сергей МЕЛЬНИКОФФ |
| Юрий НЕСТЕРЕНКО |
| Андреас фон ОССЕН |
| Лесной ПЕНЬ |
| Владимир ПУТИН |
| Антоша РУЧКИН |
| Лев ФЕДОРОВ |
 |
Валерий Барановский
Из записных книжек
Автор работал на Одесской киностудии; придумал и редактировал газету Союза кинематографистов СССР; жил и печатался в Америке...
|
Итак, Валерий Барановский («Сочинитель») все свои душевные силы и время делит сегодня между литературой и документальным кино. И то, и другое пришло в его жизнь достаточно давно.
Инженер по образованию, он окончил в незапамятные времена аспирантуру в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии и получил ученую степень кандидата искусствоведения. Руководителем его была восхитительная женщина, исследователь кинотриллера и детектива, автор блестящего, фундаментального обзора польского кино Янина Маркулан.
После защиты, начиная с 1976 года, Барановский, член союзов журналистов и кинематографистов СССР, а теперь – Украины, лауреат премии СК СССР в области кинокритики, публиковался с кинорецензиями в разных изданиях, местных (тогда, как и сегодня, он жил в Одессе), украинских республиканских, всесоюзных; работал штатным сценаристом, а затем заместителем главного редактора на Одесской киностудии; придумал и редактировал газету Союза кинематографистов СССР (в Москве); жил и печатался в «Новом русском слове» в Америке; служил заместителем генерального директора на Одесском государственном телевидении; открыл собственную кабельную телекомпанию «Круг», которой руководил более десяти лет. В последние годы всерьез взялся за документальное кино и снял более десятка полнометражных лент.
Инженер по образованию, он окончил в незапамятные времена аспирантуру в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии и получил ученую степень кандидата искусствоведения. Руководителем его была восхитительная женщина, исследователь кинотриллера и детектива, автор блестящего, фундаментального обзора польского кино Янина Маркулан.
После защиты, начиная с 1976 года, Барановский, член союзов журналистов и кинематографистов СССР, а теперь – Украины, лауреат премии СК СССР в области кинокритики, публиковался с кинорецензиями в разных изданиях, местных (тогда, как и сегодня, он жил в Одессе), украинских республиканских, всесоюзных; работал штатным сценаристом, а затем заместителем главного редактора на Одесской киностудии; придумал и редактировал газету Союза кинематографистов СССР (в Москве); жил и печатался в «Новом русском слове» в Америке; служил заместителем генерального директора на Одесском государственном телевидении; открыл собственную кабельную телекомпанию «Круг», которой руководил более десяти лет. В последние годы всерьез взялся за документальное кино и снял более десятка полнометражных лент.
Из ежедневника
Умер Юра Кукин. Ушел «за туманом». Еще один. Скоро моих однолеток не останется вовсе. Впрочем, может быть, я об этом не узнаю.
Монтень: «Философствовать это значит учиться умирать» Философ из меня никудышный. А вот со вторым все в порядке. Впрочем, мой друг и блистательный писатель Аркадий Львов, обитающий ныне от меня, увы и ах, так далеко, в Америке, что всякий раз, провожая его в аэропорту, я гоню от себя мысль, не в последний ли раз мы свиделись (ему за восемьдесят, мне за семьдесят), -- так вот, Аркадий, предпочитающий существовать «по законам живых», продолжил Монтеня «от обратного». Для него философствовать означает еще и «учиться жить». Тем горше звучит другая его фраза, имеющая с некоторых пор ко мне самое непосредственное отношение. «Раз пришло человеку время уверять себя, что он еще нескоро упадет, значит что-то уже не так – здоровый не думает о здоровье, сытый не думает о куске хлеба». Грустно, друзья! Хотя и не страшно.
Пропал епископ. В Луганской области. Тот, кто, узнав об этой новости, произнес, возможно, что ничего особенного не произошло; мол, ежедневно исчезают по белу свету сотни людей, продемонстрировал себя, на первый взгляд, черствой душой. Действительно, часто ли мы слышим о без вести пропавших архиереях? Новость всполошила народ. Но те, кто сохранил спокойствие, были более дальновидными. Вскоре выяснилось, что священнослужитель, исчезая, прикарманил триста тысяч гривен, а от роду ему было лишь 35 годков. Сразу все стало на свои места.
В Одессе состоялась уникальная выставка автопортрета. Среди множества лиц, уставившихся на зрителей с густо завешанных стен, было одно, чье выражение странным образом объединяло в себе библейскую тоску по несбыточному с жизнеутверждающим лозунгом из каверинских «Двух капитанов» -- «бороться и искать, найти и не сдаваться!» Как иначе оценить настроение сюжетного автопортрета, где пожилой и мудрый еврей сидел у разбитого самолета в полном облачении полярного летчика и так смотрел на окружающее его безжизненное пространство, что становилось ясно – он перебирает в эту минуту в памяти, по крайней мере, строки из Екклезиаста. Постаревший Саня Григорьев, все узнавший и все постигший, доказывает своим присутствием на этой льдине, что хорошая живопись и классная графика есть рукопожатие над временами и схватками – этническими, социальными, мифологическими, цеховыми. А все дело в том, что изобразивший себя в столь романтическом виде художник К. всю жизнь больше всего на свете любил рисовать самолеты и делал это виртуозно. А еще он собирал всякие раритеты, вроде книжки Льва Кассиля «Вратарь республики», изданной в незапамятные советские времена. Он специально просил всех друзей, которые приезжали к нему из России в гости, в Германию, привезти, если где-нибудь найдется, эту замечательную повесть. Но разве «Два капитана» хуже? Для К. даже лучше, потому что там есть в избытке и летчики, и аэропланы.
Смешной случай из жизни. Один еврей уезжал на ПМЖ в Израиль, но поскольку был евреем осторожным и не очень богатым, решил немножко денег оставить и в СССР, просто так, на крайний случай, ничего особенного в виду не имея. Единственный вопрос, который его волновал, был очень прост, но одновременно труден: кому оставить свои кровные, чтобы они сохранились целенькими – доллар к доллару, все четыре тысячи, как одна копеечка. «Отъезжанту» советовали для этой цели разных и весьма уважаемых людей. Он выслушивал эти рекомендации, а потом долго всматривался в лица соплеменников, годящихся, по общему мнению, даже в душеприказчики, не находя, как ни странно, в ускользающей игре их глаз и слишком застенчивой мимике того единственного, способного вызвать доверие выражения, которое поощрило бы безоговорочно рискнуть. Спустя неделю мук и сомнений, он принял совершенно неожиданное для родни и знакомых решение. Оставил деньги на хранение русскому человеку – проживающему в той же коммуне пролетарию, имени которого теперь уже никто не помнит. Весь опыт их сосуществования в общем коридоре (его мыли в очередь) и попеременного пользования отхожим местом (у каждого было на то свое, строго установленное время, в связи с чем выработался условный желудочный рефлекс) – весь их совместный опыт свидетельствовал в пользу решения, которое можно было бы трактовать и как антиееврейское, если бы не лапидарность мотивировок нашего героя. «Он (пролетарий – прим. авт.) и копейки не возьмет! Даже если на середину стола положишь. Даже если попросишь или станешь на колени! О наших евреях я этого сказать не могу». Возразить было нечего. С тем отважного человека и проводили в страну обетованную. А через год произошло нечто поразительное. Эмигрант нормально обосновался в Израиле, пустил корни и решил разумно употребить в дело свою, припрятанную в России заначку. Он потратился на телефонный звонок и попросил одного из своих старых друзей зайти к своему соседу-пролетарию, человеку без сучка и задоринки, и попросить оставленные на хранение деньги обратно. Каково же было удивление курьера, когда в ответ на негромко высказанную просьбу, тот безмятежно произнес: «Денег нет!», завершив эту леденящую кровь реплику вульгарным звуком, который обычно производится ртом, если сильно сжать губы и выдуть сквозь щель между ними воздушный пузырь, что-то вроде – пр-рр-рр-рр, или, будучи произведенным диаметрально противоположным местом, свидетельствует о досадном метеоризме. Курьер, повторю это, был ошеломлен. Состоялся краткий диалог. «Как нет?»--«Так, нет!»--(звук)—«Впрочем, деньги не пропали, -- добавил пролетарий и широким жестом обвел лоджию, пристроенную к прежде слепой стенке, -- они здесь!» -- «Что же я скажу Яше?»-- «Так и скажите!»--«Но что теперь ему делать?» -- «Ну, пусть он меня убьет…» -- высказал философское предположение растратчик. «Правда, -- тут же уточнил он, -- часть денег я отдал в рост. Я дал их знакомому, который посадил коноплю. Когда он соберет урожай, эти деньги вернутся, и, может быть, мы получим даже некоторую прибыль». Нетрудно представить себе реакцию владельца денег, которого бессовестно обманули в лучших его ожиданиях. Он, конечно же, задал курьеру бессмысленный, но горестный вопрос: «Как же так?!» Ответом ему был тот же звук, который курьер выдул по телефону с таким мастерством, словно присвоил четыре тысячи сам, хотя с ним, конечно, подобного не могло бы произойти ни при какой погоде.
Страшный рассказ. Художник К-й с женой Маргаритой очень любили в молодости путешествовать. Причем не куда-нибудь за границу, а по родной стране, по заброшенным ее градам и весям, питаясь чем придется; ночуя, где ночь застанет; никого своим присутствием не обременяя, ни от кого не завися, будучи вооруженными только удочками, фотоаппаратом да альбомами, красками и переносными мольбертами. Однажды, уже основательно поистрепавшись за месяц блужданий на стареньком «Запорожце» (неудачном отпрыске семейства горбатеньких «Фольксвагенов»), они попали в богом забытое сельцо; там деликатно постучались в окошко крайней хаты и привычно попросили пустить на подворье, чтобы ночью кто-нибудь по ошибке колеса не слямзил. При этом они в дом не рвались, а, как всегда, пообещали расположиться в кабине своего железного Конька-Горбунка, тем более, что давно настолько освоили геометрию тесного внутри него пространства, что не замечали ни острых углов, ни загогулин. Однако хозяева и на сей раз попались гостеприимные. Они и машину во двор впустили, и «вечерять» путников позвали, и рыбалку назавтра пригрозились показать такую знатную, что весло в воде от обилия рыбы торчком стоит. Словом, вскоре оказались К-й со своей Маргаритой за накрытым на скорую руку столом, где были выставлены нехитрые яства, свидетельствующие о здоровом образе жизни хозяев, – картошечка в мундирах, всяческие соления; вареная курятина, маринованые арбузы; «млынци», запеченные с кусочками сала, поднимающимися над бугристой, коричневой коркой золотистыми островками, и, конечно же, запечатанная газетной пробкой бутылка беленькой. На вопрос, не самогон ли это, хозяин утвердительно кивнул – дескать, что же, кроме самогона, лучше всего пьется в этих краях, в значительном отдалении от цивилизации? За стол села гостеприимная семья, К-й с Маргаритой да еще один гость – свояк хозяйки, техник с военного аэродромчика, расположившегося поблизости. Последнее, как и наличие в комнате означенного техника, К-го несколько смутило. Он засомневался, не ликер ли «шасси», то есть, тормозную жидкость пополам с наливкой предлагают в этом застолье, благо до аэродрома рукой подать, но делать было нечего, и он, вместе с другими, поднял предложенную ему стопочку, чокнулся «за свиданьице» и, затаив дыхание, выпил. Тут ему показалось, что какой-то ледяной шарик скатился вниз, по пищеводу и завис на уровне желудка. Приятной теплоты не наступило. В голову самогон не ударил. К-й недоверчиво осмотрелся. У остальных вид был тоже несколько озадаченный. «Не забирает. Ты чего это налил?» -- спросил свояк. «Чего-чего! Первача!»-- ответствовал хозяин и согласился, что «не забирает». Свояк взял в руки бутылку, уже на четверть, ввиду солидного объема опорожненных стаканчиков, опустевшую, и повернул ее к свету. «Ну, ты и охуел!» -- взревел он, отплевываясь. На тетрадном, в косую линейку, клочке, притороченном к бутылке с другой стороны, было начертано «Раствор для разбавления резинового клея». К-й понял, что его с Маргаритой отравили. Свояк, судя по всему, -- тоже, потому что потребовал немедленно принести настоящего первача. А хозяин, если и был озабочен, то не очень. Требуемая бутылка была принесена, и буряковка выпита в качестве противоядия до дна. Душевный разговор, естественно, не задался. Стали укладываться спать. К-й опасался, что не проснется. Ему с Ритой отвели место на русской печи. Хозяева ушли в свою горницу. А свояк растянулся тут же, у двери, на лавке, почему-то в плаще, застегнутом на все пуговицы, как бы обряженный по всей форме на случай непоправимого. Он улегся на спину, водрузил на лицо шляпу и затих. Среди ночи К-му стало невтерпеж. Печь полыхала жаром. Маргарита спала с открытым ртом и пока дышала, но тяжело, сипло. К-й слез с печи и начал при свете мобилки пробираться к двери. Он уже отодвинул, было, щеколду, когда его взгляд упал на лежащего в позе покойника свояка. Тот, в отличие от Риты, не издавал ни звука. Шляпа, закрывавшая его лицо, даже не подрагивала от дыхания. Вокруг мертвецки неподвижного тела стояла могильная тишина. К-й обмер. Он неуверенно протянул руку, тихонько приподнял шляпу и обомлел.
Свояк смотрел на него широко раскрытыми глазами, но явно ничего не видел, потому что, как это бывает у лунатиков, забывал, моргать. Однако при этом он вдруг проговорил громко и отчетливо: «Отдай головной убор!» К-й выронил шляпу, с лязгом сдвинул щеколду и выскочил на волю. Небо было огромным и светлым. Звезды усыпали его столь щедро, что было бы жалко вот так, запросто, расстаться с этим подлунным великолепием. К-й рванул на зады, где размещался дощатый сортир, и, едва присел на корточки, его так пропоносило, как никогда раньше. Он долго сидел, становясь все более умиротворенным, легким, приближаясь постепенно в своих самоощущениях к весу пера, и клялся себе, раз уж повезло остаться на белом свете, больше никогда, никогда, никогда не тратить жизнь на всякие пустяки.
В блистательной статье сценариста, режиссера, правозащитника (такое вот триединство!) Александры Свиридовой, напечатанной в связи с выходом в свет сборника рассказов Варлама Шаламова, отношение к творчеству которого она считает безошибочным показателем качества личности читающего, есть такие слова. «Литературный опыт Шаламова – явление того же порядка, что опыт Данте Алигьери, а анализировать творчество богов – богохульство». И, тем не менее, Свиридова позволяет себе делать именно это. Говорит о своем понимании «Колымских рассказов» афористично, емко, прецизионно точно, без всяких выкрутас, помогая читателям понять, в чем состоят главные открытия единственного в своем роде свидетеля сталинского ада -- потому единственного, что он не только видел то, что видел, но выжил и описал увиденное и пережитое так, как, кроме него, не мог бы это сделать никто. Свиридовой веришь, потому что ее аналитический текст адекватен варламовской прозе. Написанное ею – антитеза банальному варламововедению, как ад ГУЛАГА, где терзали безвинных, – антитеза христианскому аду, куда поделом попадают лишь грешники. Она отмечает особенности шаламовского стиля, который и стилем-то в обычном понимании слова не назовешь. Это художественный шифр, тяготеющий к жесткой, честной документалистике. Она требует обратить сугубое внимание на страшное, если вдуматься, заключение писателя о том, что ГУЛАГ «мироподобен». Ставит необходимый для понимания этой прозы акцент на полном отсутствии у Шаламова привычного для русской литературы махрового пиетета по отношению к, так называемому, простому народу, который, на его взгляд, был в своих проявлениях в нечеловеческих лагерных условиях мал и ничтожен в сравнении с поведением «интеллигенции и священства». Считает важным указать на то, что писатель не был просто соглядатаем, ибо за годы противоестественной для нормальной психики изоляции сравнялся с населением невероятных, способных довести читателя своей жестокостью до инфаркта рассказов, по сути совпадающих, как документ эпохи, с содержанием равнодушных статистических отчетов о расстрелянных, уморенных голодом, растоптанных, истерзанных на Колыме человеческих жизнях. «…Страшно слышать слова Шаламова о том, что «любой расстрел тридцать седьмого может быть повторен. – коментирует Свиридова. -- Живые люди так не пишут. Живым свойственно надеяться.
Шаламов лишает надежды даже читателя». И дальше: «Эпоха писателя-туриста Шаламовым закончена навсегда и для всех. Закончена традиция Орфической литературы. Шаламов внятно объясняет, что он – не Орфей, спустившийся в ад, а Плутон, поднявшийся из Ада». Наверное, довольно. Любой, кто захочет прочесть все это, может перейти по ссылке и встретиться со Свиридовой сам.
Шаламов настолько достоверен, что пока его читаешь, иная литература, где не жрут человечины; не рвут глоток за место в бараке; не загоняют людей в животное состояние, не вымораживают слабых и больных, не живут по понятиям аморальной уголовщины, может показаться второстепенной, кощунственно благостной, фальшивой, лакировочной. Но упаси нас Боже от крайностей. Ничего не стоит остаться под дантовским, или колымским плащом навсегда. Да, у Шаламова любовь, ненависть, измена, предательство, чудо, предначертание, смерть – все эти традиционные психологические состояния, будучи спроецированными на повседненый быт ГУЛАГА, теряют флер тайны, лишаются полутонов; бесстыдно, как в анатомическом театре, не щадя наших нервов; не учитывая того, что степень психической прочности обычного, среднеарифметического читателя далеко не беспредельна, являют нам скелетную свою конструкцию. Но опасно забывать о том, что несходный с шаламовским, а то и противоположный ему мир, тем не менее, тесно связан с ним, по крайней мере, все теми же тридцатью шестью исчисленными некогда В. Проппом сюжетами. Эти соображения имеют отношение не только к литературе, но к любому из видов творчества, создающих вторую, авторскую действительность в формах реальной жизни.
«Скачал» один за другим два фильма Вуди Аллена «Любовь во время чумы» (по романтической повести Маркеса), и «Ты встретишь таинственного незнакомца». Сразу, с первых минут, был взят в оборот переживаниями, кажущимися на жестко написанном колымском фоне игрушечными. Картины эти, как, собственно, большинство работ этого режиссера, угловатого, в круглых совиных очках, замкнутого на себе; похожего в своем уютном, горько-ироническим кинематографе на случайного зеваку, то ли протискивающегося в уличной сутолоке к продавцу хот-догов, то ль прикидывающего, не поволочиться ли за девицей, равнодушно скольнувшей по нему взглядом, -- так вот, обе эти картины лишены отчетливых начал и концов. Их перипетии, наверняка, завязались задолго до того, как были сняты первые кадры, и закончатся неведомо когда, что для зрителей совершенно несущественно. Мы переносимся в город, куда в конце Х1Х века то и дело заглядывала чума, неделями косила несчастных, а потом исчезала бесследно, не задевая чудаковатого, нестареющего, безответно влюбленного хозяина пароходной компании. Его не брала эпидемия, словно он был заговоренным. Всем напоказ, в ожидании благосклонности единственной своей возлюбленной; отличающейся выдающимися красотой и статями дочери торговца мулами, которая, к несчастью, пошла за другого, он топтал, как петух, встречных барышень и вел зачем-то при этом реестр амурных похождений. Любовь в этом фильме легко обращается в свою противоположность, чтобы затем вспыхнуть вновь. Мужская неверность наказуема, заставляет страдать и каяться. Нешуточные страсти персонажей изящной мелодрамы выдавливают у зрителей сентиментальную слезу. Особенно в финале, при виде семидесятилетних мужчины и женщины, возлежащих рядом на романтическом ложе, которое наконец-то, после пятидесяти трех лет утомительной прелюдии, было смято их телами. А над ними, подобно «урге» в монгольской степи (см. Н. Михалкова), полоскался на мачте, защищая престарелых любовников (дело было на речном пароходике), черно-желтый холерный флаг. Все это вдруг представляется мне чрезвычайно важным. Почти таким же важным, как жизненные передряги нескольких мужчин и женщин, персонажей второго фильма, в современном Лондоне. Они ссорились, мирились, расходились, вновь устремлялись друг к другу, делали невероятные глупости, упускали свое счастье; обманывались, опять оказывались у разбитого корыта -- вздорные, смешные, наивные и эмоциональные большие дети, не исключая сильно пожилой дамы, которая, так и не дождавшись высокого, черноволосого, таинственного незнакомца, которого ей сулила ясновидящая, удовлетворилась наличием толстого и старого, наделенного, однако, одним неоспоримым достоинством -- он верил, что в прошлой жизни она жила в Париже и ее звали Жанной д Арк. Это могли быть другие фильмы или книги. Просто попался под руку Вуди Аллен. Но чувства, которые вызывает проза действительно заслуживающео преклонение Шаламова и совершенно иные житийные истории, развивающиеся в другом культурно-историческом контексте, по своей силе схожи. Не стоит становиться рабом одного божества.
Валентина с ранней молодости разговаривала так, будто провозглашала некие истины, для нее самой неожиданные, но для других, по-видимому, очевидные, что приводило ее в известное замешательство. Голос у нее был и остался к шестидесяти годам теплым, грудным; лицо не утратило свежести, хотя шея, конечно, несколько увяла, но глаза сияли по-прежнему, и восторженные интонации, сопровождавшие ее открытия, другим казавшиеся элементарной информацией, вроде констатации того факта, что Волга впадает в Каспийское море, все так же волновали ее собеседников-мужчин. Вещала она обыкновенно, сидя в полутемной своей гостиной, заставленной разномастной мебелью, застеленной какими-то коврами и ковриками и пахнущей старостью. Именно этот контраст – между окружающими ее вещами, которые, во избежание сюрпризов, было опасно сдвигать с десятилетиями насиженных мест; между атмосферой советского дома престарелых и живостью, энтузиазмом Валентины, постоянно находящейся в одном и том же возрасте светлого осеннего созревания; кажется, переживающей (это только метафора) благодатную пору плодоношения, -- этот психологический водораздел придавал визитам к пожилой даме особую привлекательность. В минуты полной откровенности она порой делилась с гостями (все в той же декларативной манере), что врач ее с удивлением констатирует резкое замедление процессов старения в ее организме. «Представляете, я практически здоровый человек!» трубила она, пользуясь низким горловым регистром и завершая сентенцию, как обычно, едва слышным звуком удовлетворения, чем-то вроде м-м или, когда бы жила в Америке, где действительно пропадала с десяток лет, -- gut! Если ее приглашали прогуляться, никогда не отказывалась, ибо не была домоседкой, и, ничуть не стесняясь взглядов со стороны, прямо в проеме узенькой двери, ведущей в спальню, сбрасывала с себя домашнюю кофту и шорты, на миг-другой непринужденно демонстрируя друзьям гладкие, покатые плечи; широкие, не знакомые с целлюлитом ягодицы и маленькие, живо отвечающие на каждое ее движение, стоящие торчком грудки. Гости, по большей части ее ровесники, переживали в таких ситуациях горькое чувство тоски по своей молодости, что Валентине, чудом законсервированной природой не только в физическом, но в эмоциональном смысле, было в принципе непонятным. Ее вполне устраивало нынешнее состояние. Со стороны казалось, что пройдут столетия, дом, в котором Валентина проживала, а с ним улица, город и вообще все на свете, обратятся в руины – говорят же, что солнце становится все холоднее! – а она не изменится, будет все той же, испытывающей некоторое неудобство лишь из-за ухода собеседников, которым стоило бы сообщить о некоторых своих догадках.
Модный диктор ТВ говорила настолько быстро, пробалтывая, прошепетывая, проглатывая некоторые звуки, наподобие современных актеров, для которых «сырая», почти будничная скороговорка стала образотворческим инструментом, что казалось, будто звучит иностранная речь. Только вот какой это язык никто определить не мог.
Монтень: «Философствовать это значит учиться умирать» Философ из меня никудышный. А вот со вторым все в порядке. Впрочем, мой друг и блистательный писатель Аркадий Львов, обитающий ныне от меня, увы и ах, так далеко, в Америке, что всякий раз, провожая его в аэропорту, я гоню от себя мысль, не в последний ли раз мы свиделись (ему за восемьдесят, мне за семьдесят), -- так вот, Аркадий, предпочитающий существовать «по законам живых», продолжил Монтеня «от обратного». Для него философствовать означает еще и «учиться жить». Тем горше звучит другая его фраза, имеющая с некоторых пор ко мне самое непосредственное отношение. «Раз пришло человеку время уверять себя, что он еще нескоро упадет, значит что-то уже не так – здоровый не думает о здоровье, сытый не думает о куске хлеба». Грустно, друзья! Хотя и не страшно.
Пропал епископ. В Луганской области. Тот, кто, узнав об этой новости, произнес, возможно, что ничего особенного не произошло; мол, ежедневно исчезают по белу свету сотни людей, продемонстрировал себя, на первый взгляд, черствой душой. Действительно, часто ли мы слышим о без вести пропавших архиереях? Новость всполошила народ. Но те, кто сохранил спокойствие, были более дальновидными. Вскоре выяснилось, что священнослужитель, исчезая, прикарманил триста тысяч гривен, а от роду ему было лишь 35 годков. Сразу все стало на свои места.
В Одессе состоялась уникальная выставка автопортрета. Среди множества лиц, уставившихся на зрителей с густо завешанных стен, было одно, чье выражение странным образом объединяло в себе библейскую тоску по несбыточному с жизнеутверждающим лозунгом из каверинских «Двух капитанов» -- «бороться и искать, найти и не сдаваться!» Как иначе оценить настроение сюжетного автопортрета, где пожилой и мудрый еврей сидел у разбитого самолета в полном облачении полярного летчика и так смотрел на окружающее его безжизненное пространство, что становилось ясно – он перебирает в эту минуту в памяти, по крайней мере, строки из Екклезиаста. Постаревший Саня Григорьев, все узнавший и все постигший, доказывает своим присутствием на этой льдине, что хорошая живопись и классная графика есть рукопожатие над временами и схватками – этническими, социальными, мифологическими, цеховыми. А все дело в том, что изобразивший себя в столь романтическом виде художник К. всю жизнь больше всего на свете любил рисовать самолеты и делал это виртуозно. А еще он собирал всякие раритеты, вроде книжки Льва Кассиля «Вратарь республики», изданной в незапамятные советские времена. Он специально просил всех друзей, которые приезжали к нему из России в гости, в Германию, привезти, если где-нибудь найдется, эту замечательную повесть. Но разве «Два капитана» хуже? Для К. даже лучше, потому что там есть в избытке и летчики, и аэропланы.
Смешной случай из жизни. Один еврей уезжал на ПМЖ в Израиль, но поскольку был евреем осторожным и не очень богатым, решил немножко денег оставить и в СССР, просто так, на крайний случай, ничего особенного в виду не имея. Единственный вопрос, который его волновал, был очень прост, но одновременно труден: кому оставить свои кровные, чтобы они сохранились целенькими – доллар к доллару, все четыре тысячи, как одна копеечка. «Отъезжанту» советовали для этой цели разных и весьма уважаемых людей. Он выслушивал эти рекомендации, а потом долго всматривался в лица соплеменников, годящихся, по общему мнению, даже в душеприказчики, не находя, как ни странно, в ускользающей игре их глаз и слишком застенчивой мимике того единственного, способного вызвать доверие выражения, которое поощрило бы безоговорочно рискнуть. Спустя неделю мук и сомнений, он принял совершенно неожиданное для родни и знакомых решение. Оставил деньги на хранение русскому человеку – проживающему в той же коммуне пролетарию, имени которого теперь уже никто не помнит. Весь опыт их сосуществования в общем коридоре (его мыли в очередь) и попеременного пользования отхожим местом (у каждого было на то свое, строго установленное время, в связи с чем выработался условный желудочный рефлекс) – весь их совместный опыт свидетельствовал в пользу решения, которое можно было бы трактовать и как антиееврейское, если бы не лапидарность мотивировок нашего героя. «Он (пролетарий – прим. авт.) и копейки не возьмет! Даже если на середину стола положишь. Даже если попросишь или станешь на колени! О наших евреях я этого сказать не могу». Возразить было нечего. С тем отважного человека и проводили в страну обетованную. А через год произошло нечто поразительное. Эмигрант нормально обосновался в Израиле, пустил корни и решил разумно употребить в дело свою, припрятанную в России заначку. Он потратился на телефонный звонок и попросил одного из своих старых друзей зайти к своему соседу-пролетарию, человеку без сучка и задоринки, и попросить оставленные на хранение деньги обратно. Каково же было удивление курьера, когда в ответ на негромко высказанную просьбу, тот безмятежно произнес: «Денег нет!», завершив эту леденящую кровь реплику вульгарным звуком, который обычно производится ртом, если сильно сжать губы и выдуть сквозь щель между ними воздушный пузырь, что-то вроде – пр-рр-рр-рр, или, будучи произведенным диаметрально противоположным местом, свидетельствует о досадном метеоризме. Курьер, повторю это, был ошеломлен. Состоялся краткий диалог. «Как нет?»--«Так, нет!»--(звук)—«Впрочем, деньги не пропали, -- добавил пролетарий и широким жестом обвел лоджию, пристроенную к прежде слепой стенке, -- они здесь!» -- «Что же я скажу Яше?»-- «Так и скажите!»--«Но что теперь ему делать?» -- «Ну, пусть он меня убьет…» -- высказал философское предположение растратчик. «Правда, -- тут же уточнил он, -- часть денег я отдал в рост. Я дал их знакомому, который посадил коноплю. Когда он соберет урожай, эти деньги вернутся, и, может быть, мы получим даже некоторую прибыль». Нетрудно представить себе реакцию владельца денег, которого бессовестно обманули в лучших его ожиданиях. Он, конечно же, задал курьеру бессмысленный, но горестный вопрос: «Как же так?!» Ответом ему был тот же звук, который курьер выдул по телефону с таким мастерством, словно присвоил четыре тысячи сам, хотя с ним, конечно, подобного не могло бы произойти ни при какой погоде.
Страшный рассказ. Художник К-й с женой Маргаритой очень любили в молодости путешествовать. Причем не куда-нибудь за границу, а по родной стране, по заброшенным ее градам и весям, питаясь чем придется; ночуя, где ночь застанет; никого своим присутствием не обременяя, ни от кого не завися, будучи вооруженными только удочками, фотоаппаратом да альбомами, красками и переносными мольбертами. Однажды, уже основательно поистрепавшись за месяц блужданий на стареньком «Запорожце» (неудачном отпрыске семейства горбатеньких «Фольксвагенов»), они попали в богом забытое сельцо; там деликатно постучались в окошко крайней хаты и привычно попросили пустить на подворье, чтобы ночью кто-нибудь по ошибке колеса не слямзил. При этом они в дом не рвались, а, как всегда, пообещали расположиться в кабине своего железного Конька-Горбунка, тем более, что давно настолько освоили геометрию тесного внутри него пространства, что не замечали ни острых углов, ни загогулин. Однако хозяева и на сей раз попались гостеприимные. Они и машину во двор впустили, и «вечерять» путников позвали, и рыбалку назавтра пригрозились показать такую знатную, что весло в воде от обилия рыбы торчком стоит. Словом, вскоре оказались К-й со своей Маргаритой за накрытым на скорую руку столом, где были выставлены нехитрые яства, свидетельствующие о здоровом образе жизни хозяев, – картошечка в мундирах, всяческие соления; вареная курятина, маринованые арбузы; «млынци», запеченные с кусочками сала, поднимающимися над бугристой, коричневой коркой золотистыми островками, и, конечно же, запечатанная газетной пробкой бутылка беленькой. На вопрос, не самогон ли это, хозяин утвердительно кивнул – дескать, что же, кроме самогона, лучше всего пьется в этих краях, в значительном отдалении от цивилизации? За стол села гостеприимная семья, К-й с Маргаритой да еще один гость – свояк хозяйки, техник с военного аэродромчика, расположившегося поблизости. Последнее, как и наличие в комнате означенного техника, К-го несколько смутило. Он засомневался, не ликер ли «шасси», то есть, тормозную жидкость пополам с наливкой предлагают в этом застолье, благо до аэродрома рукой подать, но делать было нечего, и он, вместе с другими, поднял предложенную ему стопочку, чокнулся «за свиданьице» и, затаив дыхание, выпил. Тут ему показалось, что какой-то ледяной шарик скатился вниз, по пищеводу и завис на уровне желудка. Приятной теплоты не наступило. В голову самогон не ударил. К-й недоверчиво осмотрелся. У остальных вид был тоже несколько озадаченный. «Не забирает. Ты чего это налил?» -- спросил свояк. «Чего-чего! Первача!»-- ответствовал хозяин и согласился, что «не забирает». Свояк взял в руки бутылку, уже на четверть, ввиду солидного объема опорожненных стаканчиков, опустевшую, и повернул ее к свету. «Ну, ты и охуел!» -- взревел он, отплевываясь. На тетрадном, в косую линейку, клочке, притороченном к бутылке с другой стороны, было начертано «Раствор для разбавления резинового клея». К-й понял, что его с Маргаритой отравили. Свояк, судя по всему, -- тоже, потому что потребовал немедленно принести настоящего первача. А хозяин, если и был озабочен, то не очень. Требуемая бутылка была принесена, и буряковка выпита в качестве противоядия до дна. Душевный разговор, естественно, не задался. Стали укладываться спать. К-й опасался, что не проснется. Ему с Ритой отвели место на русской печи. Хозяева ушли в свою горницу. А свояк растянулся тут же, у двери, на лавке, почему-то в плаще, застегнутом на все пуговицы, как бы обряженный по всей форме на случай непоправимого. Он улегся на спину, водрузил на лицо шляпу и затих. Среди ночи К-му стало невтерпеж. Печь полыхала жаром. Маргарита спала с открытым ртом и пока дышала, но тяжело, сипло. К-й слез с печи и начал при свете мобилки пробираться к двери. Он уже отодвинул, было, щеколду, когда его взгляд упал на лежащего в позе покойника свояка. Тот, в отличие от Риты, не издавал ни звука. Шляпа, закрывавшая его лицо, даже не подрагивала от дыхания. Вокруг мертвецки неподвижного тела стояла могильная тишина. К-й обмер. Он неуверенно протянул руку, тихонько приподнял шляпу и обомлел.
Свояк смотрел на него широко раскрытыми глазами, но явно ничего не видел, потому что, как это бывает у лунатиков, забывал, моргать. Однако при этом он вдруг проговорил громко и отчетливо: «Отдай головной убор!» К-й выронил шляпу, с лязгом сдвинул щеколду и выскочил на волю. Небо было огромным и светлым. Звезды усыпали его столь щедро, что было бы жалко вот так, запросто, расстаться с этим подлунным великолепием. К-й рванул на зады, где размещался дощатый сортир, и, едва присел на корточки, его так пропоносило, как никогда раньше. Он долго сидел, становясь все более умиротворенным, легким, приближаясь постепенно в своих самоощущениях к весу пера, и клялся себе, раз уж повезло остаться на белом свете, больше никогда, никогда, никогда не тратить жизнь на всякие пустяки.
В блистательной статье сценариста, режиссера, правозащитника (такое вот триединство!) Александры Свиридовой, напечатанной в связи с выходом в свет сборника рассказов Варлама Шаламова, отношение к творчеству которого она считает безошибочным показателем качества личности читающего, есть такие слова. «Литературный опыт Шаламова – явление того же порядка, что опыт Данте Алигьери, а анализировать творчество богов – богохульство». И, тем не менее, Свиридова позволяет себе делать именно это. Говорит о своем понимании «Колымских рассказов» афористично, емко, прецизионно точно, без всяких выкрутас, помогая читателям понять, в чем состоят главные открытия единственного в своем роде свидетеля сталинского ада -- потому единственного, что он не только видел то, что видел, но выжил и описал увиденное и пережитое так, как, кроме него, не мог бы это сделать никто. Свиридовой веришь, потому что ее аналитический текст адекватен варламовской прозе. Написанное ею – антитеза банальному варламововедению, как ад ГУЛАГА, где терзали безвинных, – антитеза христианскому аду, куда поделом попадают лишь грешники. Она отмечает особенности шаламовского стиля, который и стилем-то в обычном понимании слова не назовешь. Это художественный шифр, тяготеющий к жесткой, честной документалистике. Она требует обратить сугубое внимание на страшное, если вдуматься, заключение писателя о том, что ГУЛАГ «мироподобен». Ставит необходимый для понимания этой прозы акцент на полном отсутствии у Шаламова привычного для русской литературы махрового пиетета по отношению к, так называемому, простому народу, который, на его взгляд, был в своих проявлениях в нечеловеческих лагерных условиях мал и ничтожен в сравнении с поведением «интеллигенции и священства». Считает важным указать на то, что писатель не был просто соглядатаем, ибо за годы противоестественной для нормальной психики изоляции сравнялся с населением невероятных, способных довести читателя своей жестокостью до инфаркта рассказов, по сути совпадающих, как документ эпохи, с содержанием равнодушных статистических отчетов о расстрелянных, уморенных голодом, растоптанных, истерзанных на Колыме человеческих жизнях. «…Страшно слышать слова Шаламова о том, что «любой расстрел тридцать седьмого может быть повторен. – коментирует Свиридова. -- Живые люди так не пишут. Живым свойственно надеяться.
Шаламов лишает надежды даже читателя». И дальше: «Эпоха писателя-туриста Шаламовым закончена навсегда и для всех. Закончена традиция Орфической литературы. Шаламов внятно объясняет, что он – не Орфей, спустившийся в ад, а Плутон, поднявшийся из Ада». Наверное, довольно. Любой, кто захочет прочесть все это, может перейти по ссылке и встретиться со Свиридовой сам.
Шаламов настолько достоверен, что пока его читаешь, иная литература, где не жрут человечины; не рвут глоток за место в бараке; не загоняют людей в животное состояние, не вымораживают слабых и больных, не живут по понятиям аморальной уголовщины, может показаться второстепенной, кощунственно благостной, фальшивой, лакировочной. Но упаси нас Боже от крайностей. Ничего не стоит остаться под дантовским, или колымским плащом навсегда. Да, у Шаламова любовь, ненависть, измена, предательство, чудо, предначертание, смерть – все эти традиционные психологические состояния, будучи спроецированными на повседненый быт ГУЛАГА, теряют флер тайны, лишаются полутонов; бесстыдно, как в анатомическом театре, не щадя наших нервов; не учитывая того, что степень психической прочности обычного, среднеарифметического читателя далеко не беспредельна, являют нам скелетную свою конструкцию. Но опасно забывать о том, что несходный с шаламовским, а то и противоположный ему мир, тем не менее, тесно связан с ним, по крайней мере, все теми же тридцатью шестью исчисленными некогда В. Проппом сюжетами. Эти соображения имеют отношение не только к литературе, но к любому из видов творчества, создающих вторую, авторскую действительность в формах реальной жизни.
«Скачал» один за другим два фильма Вуди Аллена «Любовь во время чумы» (по романтической повести Маркеса), и «Ты встретишь таинственного незнакомца». Сразу, с первых минут, был взят в оборот переживаниями, кажущимися на жестко написанном колымском фоне игрушечными. Картины эти, как, собственно, большинство работ этого режиссера, угловатого, в круглых совиных очках, замкнутого на себе; похожего в своем уютном, горько-ироническим кинематографе на случайного зеваку, то ли протискивающегося в уличной сутолоке к продавцу хот-догов, то ль прикидывающего, не поволочиться ли за девицей, равнодушно скольнувшей по нему взглядом, -- так вот, обе эти картины лишены отчетливых начал и концов. Их перипетии, наверняка, завязались задолго до того, как были сняты первые кадры, и закончатся неведомо когда, что для зрителей совершенно несущественно. Мы переносимся в город, куда в конце Х1Х века то и дело заглядывала чума, неделями косила несчастных, а потом исчезала бесследно, не задевая чудаковатого, нестареющего, безответно влюбленного хозяина пароходной компании. Его не брала эпидемия, словно он был заговоренным. Всем напоказ, в ожидании благосклонности единственной своей возлюбленной; отличающейся выдающимися красотой и статями дочери торговца мулами, которая, к несчастью, пошла за другого, он топтал, как петух, встречных барышень и вел зачем-то при этом реестр амурных похождений. Любовь в этом фильме легко обращается в свою противоположность, чтобы затем вспыхнуть вновь. Мужская неверность наказуема, заставляет страдать и каяться. Нешуточные страсти персонажей изящной мелодрамы выдавливают у зрителей сентиментальную слезу. Особенно в финале, при виде семидесятилетних мужчины и женщины, возлежащих рядом на романтическом ложе, которое наконец-то, после пятидесяти трех лет утомительной прелюдии, было смято их телами. А над ними, подобно «урге» в монгольской степи (см. Н. Михалкова), полоскался на мачте, защищая престарелых любовников (дело было на речном пароходике), черно-желтый холерный флаг. Все это вдруг представляется мне чрезвычайно важным. Почти таким же важным, как жизненные передряги нескольких мужчин и женщин, персонажей второго фильма, в современном Лондоне. Они ссорились, мирились, расходились, вновь устремлялись друг к другу, делали невероятные глупости, упускали свое счастье; обманывались, опять оказывались у разбитого корыта -- вздорные, смешные, наивные и эмоциональные большие дети, не исключая сильно пожилой дамы, которая, так и не дождавшись высокого, черноволосого, таинственного незнакомца, которого ей сулила ясновидящая, удовлетворилась наличием толстого и старого, наделенного, однако, одним неоспоримым достоинством -- он верил, что в прошлой жизни она жила в Париже и ее звали Жанной д Арк. Это могли быть другие фильмы или книги. Просто попался под руку Вуди Аллен. Но чувства, которые вызывает проза действительно заслуживающео преклонение Шаламова и совершенно иные житийные истории, развивающиеся в другом культурно-историческом контексте, по своей силе схожи. Не стоит становиться рабом одного божества.
Валентина с ранней молодости разговаривала так, будто провозглашала некие истины, для нее самой неожиданные, но для других, по-видимому, очевидные, что приводило ее в известное замешательство. Голос у нее был и остался к шестидесяти годам теплым, грудным; лицо не утратило свежести, хотя шея, конечно, несколько увяла, но глаза сияли по-прежнему, и восторженные интонации, сопровождавшие ее открытия, другим казавшиеся элементарной информацией, вроде констатации того факта, что Волга впадает в Каспийское море, все так же волновали ее собеседников-мужчин. Вещала она обыкновенно, сидя в полутемной своей гостиной, заставленной разномастной мебелью, застеленной какими-то коврами и ковриками и пахнущей старостью. Именно этот контраст – между окружающими ее вещами, которые, во избежание сюрпризов, было опасно сдвигать с десятилетиями насиженных мест; между атмосферой советского дома престарелых и живостью, энтузиазмом Валентины, постоянно находящейся в одном и том же возрасте светлого осеннего созревания; кажется, переживающей (это только метафора) благодатную пору плодоношения, -- этот психологический водораздел придавал визитам к пожилой даме особую привлекательность. В минуты полной откровенности она порой делилась с гостями (все в той же декларативной манере), что врач ее с удивлением констатирует резкое замедление процессов старения в ее организме. «Представляете, я практически здоровый человек!» трубила она, пользуясь низким горловым регистром и завершая сентенцию, как обычно, едва слышным звуком удовлетворения, чем-то вроде м-м или, когда бы жила в Америке, где действительно пропадала с десяток лет, -- gut! Если ее приглашали прогуляться, никогда не отказывалась, ибо не была домоседкой, и, ничуть не стесняясь взглядов со стороны, прямо в проеме узенькой двери, ведущей в спальню, сбрасывала с себя домашнюю кофту и шорты, на миг-другой непринужденно демонстрируя друзьям гладкие, покатые плечи; широкие, не знакомые с целлюлитом ягодицы и маленькие, живо отвечающие на каждое ее движение, стоящие торчком грудки. Гости, по большей части ее ровесники, переживали в таких ситуациях горькое чувство тоски по своей молодости, что Валентине, чудом законсервированной природой не только в физическом, но в эмоциональном смысле, было в принципе непонятным. Ее вполне устраивало нынешнее состояние. Со стороны казалось, что пройдут столетия, дом, в котором Валентина проживала, а с ним улица, город и вообще все на свете, обратятся в руины – говорят же, что солнце становится все холоднее! – а она не изменится, будет все той же, испытывающей некоторое неудобство лишь из-за ухода собеседников, которым стоило бы сообщить о некоторых своих догадках.
Модный диктор ТВ говорила настолько быстро, пробалтывая, прошепетывая, проглатывая некоторые звуки, наподобие современных актеров, для которых «сырая», почти будничная скороговорка стала образотворческим инструментом, что казалось, будто звучит иностранная речь. Только вот какой это язык никто определить не мог.
Письмо из провинции
Кино снимать вообще трудно. Документальное – втройне. Тут не соврешь,
не выкрутишься, не спрячешься под зонтиком художественного шифра.
Конечно, если речь идет не о кинолекциях, идеологической заказухе или
сиротской продукции слезливых и бессовестных папарацци, которых хлебом
не корми – дай покопаться в чужом грязном белье, а о подлинной
документалистике, которая не терпит нарочитой усложненности языка,
необоснованной экстраполяции выводов; картонной, актерской
реконструкции событий и не ограничивается говорящими головами на
экране.
Задача еще более усложняется, когда кино снимается в провинции. Не в той, горьковато-философской, увядающее-печальной, что у Бродского, а в самой обыкновенной, скучной провинции, где мы и живем; на окраине одного из осколков империи, в банальном областном центре со своими микроолигархами в депутатских креслах, исполкомовскими дрязгами, сервильным телевидением; газетами, не предназначенными для чтения, и населением, раз в несколько лет превращающимся в подчиненный стадному инстинкту электорат.
Пусть последнее никого не обижает. Таково воздействие на интеллект и нравственность провинции всеобщего избирательного права, которое ставит наше будущее в прямую зависимость от выживших из ума стариков, бомжей, арестантов, деклассированных личностей, обосновавшихся на ПМЖ возле пивных будок и в подворотнях. Ведь недаром одним из символов нации у нас, на Украине (а пишу я именно оттуда), стал белопенный напиток разнообразных сортов и крепости, носящий гордое имя «Пива нашо1 Батьк1вщини» (по-русски, -- нашей Родины -- прим. автора).
Отсюда легко сделать следующий вывод. Студию документального кино, о которой я пишу, мы назвали «Провинцией» с умыслом: не только в силу ее географического положения (в Одессе), а еще и потому, что всеми доступными нам способами пытаемся работать от обратного, доказывая, что кино, как бы тяжело это занятие в застойной глубинке ни давалось, не имеет права носить на себе отпечатка провинциальности. Тут уместно вспомнить о покойном Викторе Астафьеве, замечательном русском прозаике, который утверждал, что с той минуты, когда провинция начинает тебе нравиться, твоя песенка спета. Следуя этому принципу, мы предлагаем зрителям в своих фильмах, о чем бы ни шла речь, честную картину непрепарированной жизни; в своем роде -- антитезу отталкивающей провинциальности гламурного неигрового кино, в том числе и политического. Так нам, по крайней мере, кажется. Иногда это удается. Иногда – не очень. Но мы падаем духом, памятуя о том, что для кинематографа нет ни границ, ни черты оседлости.
Вообще-то, каждая картина, снятая в Одессе, -- счастливая случайность. В провинции, увы, нет денег. Вернее, их сколько угодно, тратятся здесь с куда меньшей охотой, нежели в столицах, ибо характер мышления заштатных нуворишей, лишен изящества и блеска. Да и размах деловой активности, и культурные устремления предпринимателей в медвежьих углах поскромнее. И законодательство, которое не сулит им в награду за благотворительность никаких преференций, тоже не способствует всплеску энтузиазма. А зарабатывать на себя самостоятельно документальное кино еще толком не умеет. Ведь единственный канал его распространения сегодня, когда в кинотеатрах эти фильмы не привечают, -- телевидение. И, стало быть, заключать контракты надлежит с ним. Оно же сегодня сплошь таблоидное; состоит, помимо контролируемых властями новостей, из купленных медиа-франшиз, наподобие всяческих конкурсов, викторин и так далее. Ему на документалистику плевать. Есть, правда еще и западное медиа-пространство. Но, чтобы туда попасть, нужно широко рекламировать свои картины, торговать ими на кинорынках, а это, в свою очередь, требует немалых средств. Такой вот заколдованный круг.
Фильм «Пережившие Шоа» о евреях, уничтоженных в 1941-1942 годах под Одессой, на территории Транснистрии, мы сняли благодаря раввину Авроому Вольфу из одесской ортодоксальной синагоги на Степовой улице, который просто-таки заставил председателя правления одного из банков, посещающего по праздникам его дом молитвы, выделить нам несчастных шесть тысяч долларов. Мы очень надеялись на то, что сумеем показать свою скромную работу в офисе Спилберга, который, быть может, счел бы разумным профинансировать, уже по-настоящему, из средств своего фонда, еще две ленты, продолжающие тему нашей. Очень хотелось сделать фильм о праведниках мира, людях разных национальностей, спасавших, рискуя жизнью, евреев, на всех оккупированных территориях, а затем – об одесских дворниках и соседях несчастных «жиданов», доносчиках, совершавших свои подлости, как в годы инквизиции, ради завладения имуществом казненных. Но, к содалению, ни до Спилберга не добрались, ни у других бизнесменов нужных средств не нашли. Более того, некоторые деловые люди иудейского происхождения спрашивали нас: «Вы евреи? Ваши семьи пострадали?» И, услышав отрицательный ответ, продолжали: «Тогда зачем вам это надо?»
«Кромешный свет мой» -- о слепых, их специфических взаимоотношениях с окружающим миром – удалось снять, потому что такие же деньги, что ушли на «ШОА», пожертвовал нам сирийский бизнесмен Киван Аднан. Он тогда пускал корни в Одессе и демонстративно занимался благотворительностью. В том числе, подарил довольно много «убитых» квартир в «хрущовках» местным слепым. Какими бы эти квартиры ни были, шаг его вызывал уважение. Другие не делали в этом смысле ничего похожего. Наверное, благодетель полагал, что каждый из слепцов, к которому мы приблизимся с камерой, будет его благодарить, славословить. Но вышло по-другому. Истерзанные недугом, измотанные тяжелейшей жизнью во мраке люди обсуждали перед камерой все, что угодно, за исключением благородного поступка Кивана Аднана. Вероятно, это пришлось ему не по вкусу, потому что предварительными разговорами о том, что он будет опекать в нашей дыре документальное кино, все и окончилось. Больше мы не виделись.
«Забытая война», картина об афганском подвиге и афганской трагедии, появилась на свет после выхода на большой экран фильма Федора Бондарчука «9 рота». Именно тогда к нам пришли члены городского комитета афганцев, долго ругали фальшивую, на их взгляд, ленту и попросили запечатлеть на видео рассказы нескольких «шурави» о том, как все там было на самом деле. Деньги нашли они сами. Тоже немного, но нам хватило. Рядом с одесситами снимался и специальный корреспондент центрального телевидения СССР по Афганистану Михаил Лещинский. Он нам крепко помог, разговорил ребят. И мы узнали о происходивше на территории оккупированной страны столько жестокого и страшного, что хватило бы на два фильма.
С трудом, только благодаря тому, что на Украине избрали президентом Ющенко, нам удалось добыть средства на давно, задолго до его появления, запланированную картину об украинском голодоморе 1931-1932 годов. Тогдашний одесский губернатор, земляк Ющенко, по вполне понятным причинам помог добыть денег столько, что хватило на командировки по Одесской, Черниговской и Сумской областям. Мы снимали стариков и старух, которые пережили страшную беду детьми. Их вместе с родителями убивали голодом; они погибали от ядовитой растительной дряни, которую пытались есть, чтобы протянуть еще день, час, минуту. И у тех, кто выжил, странным образом крепко-накрепко запечатлелось в детской памяти все, что они видели, от валяющихся на середине улиц трупов односельчан до неестественно гладких обличий деревенских людоедов.
Помимо этих людей, мы снимали полититиков, журналистов, социологов, ученых. Но их высказывания стоят у нас в одном ряду со свидетельствами жертв голодомора, ибо мы, живущие в постгеноцидном обществе, утратившем в те годы, а затем в войну генофонд нации, и они – равновеликие персонажи этой трагедии. Нельзя провести отчетливой границы между теми, кто был ее участником и нами, анализирующими эти страшные события в исторической ретроспективе. Нам нужно было показать, что определение «геноцид украинского народа», что бы там ни торочили медведевские и путинские «толкователи снов», правомерно. И вот почему. Никто никогда не говорил о геноциде украинцев. А украинский народ был частью народа советского. Преступление же совершалось не русскими, а режимом, от которого на Кубани, скажем, пострадал русский народ, то бишь, опять-таки, -- народ советский. Но раз уж мы разошлись по национальным квартирам, то никто не мешает россиянам назвать свою беду «геноцидом русского народа». Ну, и, конечно, учитывая исторические реалии, следовало бы расширить число черт, определяющих, что есть геноцид. К этническим, религиозным, расовым признакам следует добавить еще и социальные, идеологические мотивы истребления людей.
Фильм наш очень трудно появлялся на свет, вызвал много кривотолков. Но мы сделали специальный сайт, где публичные размышления всех наших собеседников были даны в полном виде, без изъятий. Сайт этот год провисел в Интернете…
Зачем я так подробно рассказываю о наших картинах? Как ни смешно, лишь в надежде на то, что кто-нибудь отзовется, предложит финансовую помощь. Если ее не будет, мы вряд ли закончим картину «Дурдом», о том, как совковый режим ломал нормальным, деятельным, порядочным, трудолюбивым людям хребты, помимо прочего – с помощью криминальной психиатрии. Не выпустим ленты «Кто убивал Надежду?», продолжающей другую картину «Провинции» -- «Монолог о нелюбви» -- о беспризорных девчонках, которые великодушно согласились поиграть в кинозвезд. Не сделаем еще очень многого.
Дело в том, что мы давным-давно составили каталог картин, которые нужно было бы обязательно снять. Большинство проектов так и осталось нереализованными. Если кому-нибудь это покажется интересным, мы готовы все показать и обо всем поведать. Связаться с нами можно по адресу -- valery_phokus@ukr.net Трейлеры нетрудно отыскать по ссылке, а фильмы увидеть здесь.
Ну, а пока суд да дело, будем и дальше искать партнеров по белу свету.
Очень не хочется писать письма из в провинции.
Задача еще более усложняется, когда кино снимается в провинции. Не в той, горьковато-философской, увядающее-печальной, что у Бродского, а в самой обыкновенной, скучной провинции, где мы и живем; на окраине одного из осколков империи, в банальном областном центре со своими микроолигархами в депутатских креслах, исполкомовскими дрязгами, сервильным телевидением; газетами, не предназначенными для чтения, и населением, раз в несколько лет превращающимся в подчиненный стадному инстинкту электорат.
Пусть последнее никого не обижает. Таково воздействие на интеллект и нравственность провинции всеобщего избирательного права, которое ставит наше будущее в прямую зависимость от выживших из ума стариков, бомжей, арестантов, деклассированных личностей, обосновавшихся на ПМЖ возле пивных будок и в подворотнях. Ведь недаром одним из символов нации у нас, на Украине (а пишу я именно оттуда), стал белопенный напиток разнообразных сортов и крепости, носящий гордое имя «Пива нашо1 Батьк1вщини» (по-русски, -- нашей Родины -- прим. автора).
Отсюда легко сделать следующий вывод. Студию документального кино, о которой я пишу, мы назвали «Провинцией» с умыслом: не только в силу ее географического положения (в Одессе), а еще и потому, что всеми доступными нам способами пытаемся работать от обратного, доказывая, что кино, как бы тяжело это занятие в застойной глубинке ни давалось, не имеет права носить на себе отпечатка провинциальности. Тут уместно вспомнить о покойном Викторе Астафьеве, замечательном русском прозаике, который утверждал, что с той минуты, когда провинция начинает тебе нравиться, твоя песенка спета. Следуя этому принципу, мы предлагаем зрителям в своих фильмах, о чем бы ни шла речь, честную картину непрепарированной жизни; в своем роде -- антитезу отталкивающей провинциальности гламурного неигрового кино, в том числе и политического. Так нам, по крайней мере, кажется. Иногда это удается. Иногда – не очень. Но мы падаем духом, памятуя о том, что для кинематографа нет ни границ, ни черты оседлости.
Вообще-то, каждая картина, снятая в Одессе, -- счастливая случайность. В провинции, увы, нет денег. Вернее, их сколько угодно, тратятся здесь с куда меньшей охотой, нежели в столицах, ибо характер мышления заштатных нуворишей, лишен изящества и блеска. Да и размах деловой активности, и культурные устремления предпринимателей в медвежьих углах поскромнее. И законодательство, которое не сулит им в награду за благотворительность никаких преференций, тоже не способствует всплеску энтузиазма. А зарабатывать на себя самостоятельно документальное кино еще толком не умеет. Ведь единственный канал его распространения сегодня, когда в кинотеатрах эти фильмы не привечают, -- телевидение. И, стало быть, заключать контракты надлежит с ним. Оно же сегодня сплошь таблоидное; состоит, помимо контролируемых властями новостей, из купленных медиа-франшиз, наподобие всяческих конкурсов, викторин и так далее. Ему на документалистику плевать. Есть, правда еще и западное медиа-пространство. Но, чтобы туда попасть, нужно широко рекламировать свои картины, торговать ими на кинорынках, а это, в свою очередь, требует немалых средств. Такой вот заколдованный круг.
Фильм «Пережившие Шоа» о евреях, уничтоженных в 1941-1942 годах под Одессой, на территории Транснистрии, мы сняли благодаря раввину Авроому Вольфу из одесской ортодоксальной синагоги на Степовой улице, который просто-таки заставил председателя правления одного из банков, посещающего по праздникам его дом молитвы, выделить нам несчастных шесть тысяч долларов. Мы очень надеялись на то, что сумеем показать свою скромную работу в офисе Спилберга, который, быть может, счел бы разумным профинансировать, уже по-настоящему, из средств своего фонда, еще две ленты, продолжающие тему нашей. Очень хотелось сделать фильм о праведниках мира, людях разных национальностей, спасавших, рискуя жизнью, евреев, на всех оккупированных территориях, а затем – об одесских дворниках и соседях несчастных «жиданов», доносчиках, совершавших свои подлости, как в годы инквизиции, ради завладения имуществом казненных. Но, к содалению, ни до Спилберга не добрались, ни у других бизнесменов нужных средств не нашли. Более того, некоторые деловые люди иудейского происхождения спрашивали нас: «Вы евреи? Ваши семьи пострадали?» И, услышав отрицательный ответ, продолжали: «Тогда зачем вам это надо?»
«Кромешный свет мой» -- о слепых, их специфических взаимоотношениях с окружающим миром – удалось снять, потому что такие же деньги, что ушли на «ШОА», пожертвовал нам сирийский бизнесмен Киван Аднан. Он тогда пускал корни в Одессе и демонстративно занимался благотворительностью. В том числе, подарил довольно много «убитых» квартир в «хрущовках» местным слепым. Какими бы эти квартиры ни были, шаг его вызывал уважение. Другие не делали в этом смысле ничего похожего. Наверное, благодетель полагал, что каждый из слепцов, к которому мы приблизимся с камерой, будет его благодарить, славословить. Но вышло по-другому. Истерзанные недугом, измотанные тяжелейшей жизнью во мраке люди обсуждали перед камерой все, что угодно, за исключением благородного поступка Кивана Аднана. Вероятно, это пришлось ему не по вкусу, потому что предварительными разговорами о том, что он будет опекать в нашей дыре документальное кино, все и окончилось. Больше мы не виделись.
«Забытая война», картина об афганском подвиге и афганской трагедии, появилась на свет после выхода на большой экран фильма Федора Бондарчука «9 рота». Именно тогда к нам пришли члены городского комитета афганцев, долго ругали фальшивую, на их взгляд, ленту и попросили запечатлеть на видео рассказы нескольких «шурави» о том, как все там было на самом деле. Деньги нашли они сами. Тоже немного, но нам хватило. Рядом с одесситами снимался и специальный корреспондент центрального телевидения СССР по Афганистану Михаил Лещинский. Он нам крепко помог, разговорил ребят. И мы узнали о происходивше на территории оккупированной страны столько жестокого и страшного, что хватило бы на два фильма.
С трудом, только благодаря тому, что на Украине избрали президентом Ющенко, нам удалось добыть средства на давно, задолго до его появления, запланированную картину об украинском голодоморе 1931-1932 годов. Тогдашний одесский губернатор, земляк Ющенко, по вполне понятным причинам помог добыть денег столько, что хватило на командировки по Одесской, Черниговской и Сумской областям. Мы снимали стариков и старух, которые пережили страшную беду детьми. Их вместе с родителями убивали голодом; они погибали от ядовитой растительной дряни, которую пытались есть, чтобы протянуть еще день, час, минуту. И у тех, кто выжил, странным образом крепко-накрепко запечатлелось в детской памяти все, что они видели, от валяющихся на середине улиц трупов односельчан до неестественно гладких обличий деревенских людоедов.
Помимо этих людей, мы снимали полититиков, журналистов, социологов, ученых. Но их высказывания стоят у нас в одном ряду со свидетельствами жертв голодомора, ибо мы, живущие в постгеноцидном обществе, утратившем в те годы, а затем в войну генофонд нации, и они – равновеликие персонажи этой трагедии. Нельзя провести отчетливой границы между теми, кто был ее участником и нами, анализирующими эти страшные события в исторической ретроспективе. Нам нужно было показать, что определение «геноцид украинского народа», что бы там ни торочили медведевские и путинские «толкователи снов», правомерно. И вот почему. Никто никогда не говорил о геноциде украинцев. А украинский народ был частью народа советского. Преступление же совершалось не русскими, а режимом, от которого на Кубани, скажем, пострадал русский народ, то бишь, опять-таки, -- народ советский. Но раз уж мы разошлись по национальным квартирам, то никто не мешает россиянам назвать свою беду «геноцидом русского народа». Ну, и, конечно, учитывая исторические реалии, следовало бы расширить число черт, определяющих, что есть геноцид. К этническим, религиозным, расовым признакам следует добавить еще и социальные, идеологические мотивы истребления людей.
Фильм наш очень трудно появлялся на свет, вызвал много кривотолков. Но мы сделали специальный сайт, где публичные размышления всех наших собеседников были даны в полном виде, без изъятий. Сайт этот год провисел в Интернете…
Зачем я так подробно рассказываю о наших картинах? Как ни смешно, лишь в надежде на то, что кто-нибудь отзовется, предложит финансовую помощь. Если ее не будет, мы вряд ли закончим картину «Дурдом», о том, как совковый режим ломал нормальным, деятельным, порядочным, трудолюбивым людям хребты, помимо прочего – с помощью криминальной психиатрии. Не выпустим ленты «Кто убивал Надежду?», продолжающей другую картину «Провинции» -- «Монолог о нелюбви» -- о беспризорных девчонках, которые великодушно согласились поиграть в кинозвезд. Не сделаем еще очень многого.
Дело в том, что мы давным-давно составили каталог картин, которые нужно было бы обязательно снять. Большинство проектов так и осталось нереализованными. Если кому-нибудь это покажется интересным, мы готовы все показать и обо всем поведать. Связаться с нами можно по адресу -- valery_phokus@ukr.net Трейлеры нетрудно отыскать по ссылке, а фильмы увидеть здесь.
Ну, а пока суд да дело, будем и дальше искать партнеров по белу свету.
Очень не хочется писать письма из в провинции.

На нашем форуме вы можете обсудить любые темы (кликните на лого для перехода).
 |

Авторские права и дисклаймер
Free Speech / Свобода Слова. Сайт кавалера ордена "Герой Нации" Чеченской Республики Ичкерия Сергея Мельникофф и его единомышленников. Материалы сайта разрешены к свободному копированию и распространению. За гиперссылки на "Свободу Слова", при перепечатке статей, буду благодарен. |
© 2015, Sergey Melnikoff, aka MFF |